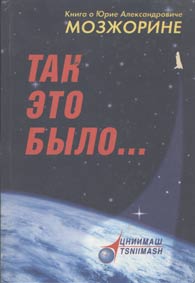мозжорин так это было
Мозжорин так это было
50 лет в ракетно-космической отрасли
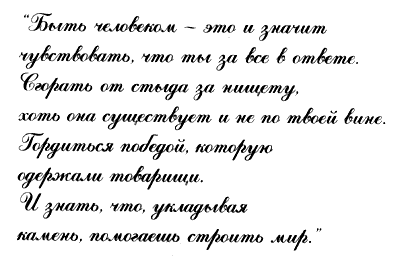
“Земля людей”

— Ведь все интересные моменты уйдут с тобой, и никто не будет знать в подробностях, как это было на твоем уровне, — говорили они, не смущаясь.
А мне было, что вспоминать. Ведь жизнь предоставила мне счастливую возможность работать с самого начала в организованной в 1946 г. ракетной промышленности. Пройти путь от рядового исполнителя до члена коллегии Министерства общего машиностроения, директора головного научно-исследовательского института НИИ-88 — ЦНИИмашиностроения. На должности этой я проработал около 30 лет несмотря на всевозможные удивительные коллизии. А сложностей хватало, так как молодая ракетно-космическая техника искала “на ощупь”, если так можно сказать, рациональные и эффективные пути своего развития, которые переплетались с политическими устремлениями Советского Союза, одной из супердержав в прошлом. Мне довелось видеть развитие ракетной техники со всех сторон, начиная с позиций заказчика — Министерства обороны СССР, формировавшего ее под свои нужды, а затем непосредственного исполнителя некоторых элементов космической техники и участника тех великих событий, которые прославили нашу страну и вывели ее в разряд великой ракетно-космической державы. Наконец, возглавляя НИИ-88 и обосновывая перспективы и рациональную техническую политику развития РКТ, мне приходилось непосредственно сталкиваться с противоположными мнениями главных конструкторов и сильных мира сего, которые делали историю ракетного вооружения и освоения космического пространства человеком и у которых были свои, и как они считали, единственно правильные, хоть и различные, взгляды на то, “что и как надо делать” в этой области.
Оказалось, что вспоминать — это не простое дело. Память сохраняет только сильные переживания, стрессовые ситуации и чрезвычайные события, оставившие глубокий след в личной жизни. Я не вел дневник и не делал пометок на память: с детства не любил писать сочинения и не представлял себе, что это может когда-нибудь понадобиться. Потому мои воспоминания носят отрывочный и субъективный характер и не могут претендовать на полный обобщающий анализ прошедшего. Однако они позволят восстановить часть прошлого и историю взаимоотношений людей в процессе становления ракетного и космического дела в нашей стране. При написании воспоминаний я пытался как можно точнее и объективнее восстановить отдельные моменты, чтобы дать возможность другим сделать свои обобщения в будущем. Конечно, воспроизведение только одних интересных или интригующих, с моей точки зрения, событий было бы неправильно и могло бы исказить общую картину развития РКТ. Поэтому я постарался привести некоторые текущие факты из жизни организаций, в которых я работал продолжительное время.
Мозжорин так это было
Профессор, доктор технических наук Юрий Александрович Мозжорин (1920-1998 гг.) — один из пионеров освоения космического пространства.
Ю.А. Мозжорин — технический руководитель работ по созданию первого в СССР автоматизированного командно-измерительного комплекса управления первым искусственным спутником Земли и первым полетом человека в космос (1957-1961 гг.).
Юрий Александрович — один из организаторов и руководителей работ в области советской ракетно-космической науки, директор (июль 1961 — ноябрь 1990 гг.) головного научного центра отечественной ракетно-космической промышленности — Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, до 1967 г. — НИИ-88).
При активном участии Мозжорина в ЦНИИмаше был создан всемирно известный и поныне Центр управления полетами космических кораблей (ЦУП в г. Королеве).
С 1971 по 1990 гг. Юрий Александрович — член коллегии Министерства общего машиностроения, непременный участник, а во многих случаях и председатель основных государственных, межведомственных комиссий и советов.
До последних дней своей жизни Мозжорин оставался главным научным сотрудником ЦНИИмаша, вице-президентом Академии (ныне Российской) космонавтики им. К.Э.Циолковского, руководителем секции истории РКТ научных чтений (королёвских) по космонавтике.
В 1962-1991 гг. Юрий Александрович заведовал кафедрой Московского физико-технического института.
Ю.А. Мозжорин — участник Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант-инженер. Он — Герой Социалистического Труда (1961 г.), лауреат Ленинской (1958 г.) и Государственной (1984 г.) премий, кавалер двух орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции и Отечественной войны I и II степени, двух орденов Красной Звезды, ордена “За заслуги перед Отечеством “ IV степени и многих медалей, почетный гражданин города Королева.
Москва
ЗАО “Международная программа образования”
2000
ББК 39.6
Т-
УДК 629.7 (092)
Научный редактор — академик РАН Н.А. Анфимов, зам. научного редактора — доктор технических наук В.И. Лукьященко, зам. научного редактора, редактор-составитель книги — кандидат технических наук А.Д. Брусиловский
Т— Так это было. Мемуары Ю. А. Мозжорина. Мозжорин в воспоминаниях современников. — М: ЗАО “Международная программа образования”, 2000. — 568 с, ил.
ISBN
Первая часть книги — мемуары Ю.А. Мозжорина “50 лет в ракетно-космической отрасли” — включает в себя описание яркого жизненного пути Юрия Александровича, затрагивает наиболее значительные ракетно-космические проекты и споры вокруг них, рассказывает о вкладе в создание ракетно-космической техники крупнейших главных конструкторов и далеко не простых взаимоотношениях между ними в ходе этой необычайно ответственной работы. Мемуары содержат множество интереснейших эпизодов из истории становления отрасли и деятельности НИИ-88 (ЦНИИмаша) — института, в течение 30 лет возглавляемого Ю.А. Мозжориным, сохраняют личные оценки Юрия Александровича, бывшего непременным участником, а во многих случаях и председателем основных государственных, межведомственных комиссий и советов, тех или иных событий, которыми чрезвычайно богата была его жизнь.
Вторую часть книги составляют воспоминания о Ю.А. Мозжорине и его деятельности людей, близко с ним общавшихся.
Для широкого круга читателей, интересующихся историей отечественного ракетостроения и космонавтики.
ББК 39.6
ISBN 5-7781-0053-1
ЛР № 020753 от 23.04.98 г.
Подписано в печать 21.12.2000 г. Формат 60 х 90 7,6.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Усл. печ. л. 35,5.
Тираж 2500 экз. Заказ № 3595.
Издательство ЗАО «МПО».
Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов.
Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП ордена «Знак Почета»
Смоленской областной типографии им. В. И. Смирнова.
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.
СОДЕРЖАНИЕ
Ю.А.МОЗЖОРИН — ДИРЕКТОР ГОЛОВНОГО ИНСТИТУТА ОТРАСЛИ Ю.Н. Коптев
Ю.А.МОЗЖОРИН — ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КОРОЛЕВА. А.Ф.Морозенко
50 ЛЕТ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. Мемуары Ю.А.Мозжорина
ПРЕДИСЛОВИЕ
“С чего начинается Родина. ”
В поверженной Германии
Александр Григорьевич Мрыкин
Глава 3. НИИ — 4 МО
В амплуа исполнителя
Начало перестройки института
Оборонная доктрина-доктрина сдерживания
Проверка института на прочность
На Совете обороны страны
В институтском горниле
Газодинамика стартовых сооружений
Системные исследования перспектив развития ракетной техники и ее проектирование
В плену собственных забот о комплексе Н1-Л3
Глава 6. ОТ КВЦ ДО ЦУП
Дополнительные задачи КВЦ
Современный большой КВЦ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Авторы воспоминаний
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Мозжорин так это было
Ю.А. МОЗЖОРИН: “ЦНИИМАШ — МОЯ РАДОСТЬ И БОЛЬ. ”
Интервью, взятое у Ю.А. Мозжорина в декабре 1995 г. Александром Брусиловским
/В этом интервью в концентрированном виде представлены взгляды Ю.А.Мозжорина на историю ракетно-космической отрасли, рождение и становление НИИ-88 (ЦНИИмаша), видение Юрием Александровичем ситуации, сложившейся в отрасли в последнее 10-летие уходящего века, а также проблем, вставших перед Мозжориным как директором головного научно-исследовательского института отрасли/

— С ракетной техникой я связан с 1946 года. В наступающем году исполнится полвека, как я посвятил себя служению этому новому и очень интересному направлению техники. Я глубоко благодарен своей судьбе, которая связала меня с замечательной организацией — ЦНИИмашем, в которой я работаю уже 35 лет. То было трудное, но интересное время, когда все видели впечатляющие плоды своей деятельности.
Рождение новой техники
— Когда и как начала создаваться отечественная ракетно-космическая отрасль?
— Она, безусловно, ведет свой отсчет от особого постановления правительства 13 мая 1946 года, которым была определена вся инфраструктура отрасли: управляющие органы, научно-исследовательские и конструкторские организации (разработчики и смежники), производственные предприятия, а также были утверждены серьезные мероприятия по обеспечению работ, связанных с созданием ракетной техники. Была основана, в том числе, дорогая моему сердцу организация — НИИ-88 (ныне ЦНИИмаш), на которую возлагалась разработка жидкостных баллистических ракет дальнего действия и зенитных управляемых ракет (26 августа того же года министр вооружения Д.Ф. Устинов утвердил структуру НИИ-88 со специальным конструкторским бюро (позднее — ОКБ-1, с 1956 года — самостоятельное Центральное КБ экспериментального машиностроения, НПО “Энергия” ныне Ракетно-космическая корпорация “Энергия” им. С.П. Королева), отдел которого по разработке БРДД возглавил С.П. Королев — А.Б.).
В постановлении отмечалась государственная важность такого вооружения, для его разработки создавались особо благоприятные условия. Благодаря этому и при наличии таких талантливых конструкторов, как С.П. Королёв, М.К.Янгель, В.П. Мишин, А.М. Исаев, В.П. Макеев, М.Ф. Решетнев, Г.Н. Бабакин, Д.И. Козлов, В.М. Ковтуненко, работавших в институте, было обеспечено невиданно быстрое развитие отечественной ракетной и космической техники.
— Как проходил процесс становления НИИ-88?
— Историю НИИ-88 можно разбить на два этапа. Первый — до 1957 года, когда были заложены научные основы ракетостроения и под руководством конструктора С/П. Королева были созданы первые ракеты дальнего действия Р-1, Р-2, Р-5М, Р-11, завершалась подготовка к летным испытаниям первой межконтинентальной ракеты Р-7 и предстоящему штурму космоса. Под руководством А.М. Исаева и Д.Д. Севрука были решены основные проблемы создания жидкостных двигателей на высококипящих окислителях с хорошими удельными характеристиками для баллистических ракет морского и наземного базирования.
Второй этап развития НИИ-88 был посвящен в основном исследовательской и научно-экспериментальной деятельности.
— Какие задачи были возложены на головной институт?
— Институт после выделения ОКБ-1, ОКБ-2, завода №88, загорского и осташковского филиалов должен был решать следующие задачи:
• исследования перспектив и разработки рациональной технической политики развития ракетно-космической техники;
• разработки проектов долгосрочных программ создания ракетных комплексов и космических объектов;
• выдачи заключений на все проекты и предложения главных конструкторов о целесообразности реализации данных проектов;
• научных и экспериментальных исследований в области аэродинамики и теплообмена, прочности, динамики, изыскания и разработки новых конструкционных материалов и теплозащитных покрытий в обеспечение конструкторских разработок ракетных и космических КБ и
• создания полигонных и стендовых средств измерений.
Из этих проблем наиболее сложной была первая, для ее решения требовались четкая формулировка задач и целей, исследования стратегических операций, рассмотрение различных вариантов их реализации исходя из тенденций развития подобной техники за рубежом и создаваемой этим угрозы для безопасности нашей страны, а также оценки эффективности решения поставленных задач с учетом экономических затрат и возможностей отечественных КБ и промышленности.
”Королев был вспыльчив, но отходчив”
— Как главные конструкторы относились к новой головной роли НИИ-88 и как складывались взаимоотношения с ними?
— Поначалу главные конструкторы-ракетчики были против головной роли института по ракетной и космической технике, поскольку это как-то ущемляло их авторитет. Приведу для примера конкретный разговор с С.П.Королевым.
Когда меня назначили директором-техническим руководителем НИИ-88, то я, зная некоторую натянутость отношений между институтом и ОКБ-1 из-за дележа имущества и славы (ордена Ленина) при выделении ОКБ-1, решил наладить хорошие отношения между организациями. Сразу же поехал на прием к Сергею Павловичу. Я представился и попросил его советов, как строить работу НИИ-88, чтобы наиболее полно отвечать потребностям ОКБ-1. Королев поздравил меня со столь высоким назначением и, приветливо улыбаясь, сказал:
— Мне трудно давать тебе советы: я — лицо заинтересованное, но все же скажу. Занимайся обстоятельно аэродинамикой и аэродинамическим нагревом, прочностью, динамикой. Создавай хорошую измерительную аппаратуру для стендовых и летных испытаний. Разрабатывай новые конструкционные материалы и теплозащитные покрытия. И мы — главные конструкторы — будем любить тебя и поддерживать. Что же касается “жандармской” деятельности института в оценке наших проектов и предложений, то вам — не конструкторам — этого не понять и не под силу сделать правильный выбор. Если институт все же будет заниматься подобными оценками, то он потеряет нашу поддержку, а тебе его директором больше двух лет не продержаться.
На это я тут же предложил: “Сергей Павлович, и нам не нравятся заданные институту “жандармские” функции. Вы, главные конструкторы, — люди авторитетные, попросите министра снять с НИИ-88 эти функции. Он должен прислушаться к вашим советам”. Опять радушно улыбаясь, Королев ответил: “Никуда мы не поедем и ничего говорить не будем. Ты просил моего совета, я его дал, а дальше поступай, как знаешь”.
Второй раз на эту же тему мне довелось говорить с Сергеем Павловичем по поводу разработанной им новой межконтинентальной ракеты Р-9. Институт в своем заключении, указав на техническое совершенство новой ракеты Р-9 и отметив ее высокие характеристики, тем не менее, высказывал мнение, что она не может быть основой стратегического вооружения, полагая, что для этих целей следует рекомендовать межконтинентальную ракету Р-16 на высококипящих компонентах топлива с автономной системой управления полетом, разработанную ОКБ-586 М.К. Янгеля.
Через три дня по кремлевскому телефону звонит Сергей Павлович и раздраженно выговаривает мне:
— Я читал твое непотребное заключение. Это только у нас в Госкомитете оборонной техники нет порядка. Если бы ты такое заключение написал на одного из генеральных конструкторов в Госкомитете авиационной техники, то через две недели твоего духа не было бы в отрасли. — и бросил трубку.
Однако точка зрения института оправдалась. Надо сказать, что С.П. Королёв был вспыльчив, но отходчив. В дальнейшем он очень активно на коллегиях поддерживал институт, и между НИИ-88 и ОКБ-1 завязались хорошие деловые отношения.
Два сверхтяжелых носителя
— Очевидно, не проще было взаимодействовать и с В.Н. Челомеем?
— Владимир Николаевич Челомей — один из ведущих конструкторов в области РКТ, со своим видением перспектив ее развития. И расхождений во взглядах с Челомеем у института было более чем достаточно. Приведу один эпизод. Затягивалась разработка ракеты-носителя Н1 для лунного космического комплекса Н1-Л3 и создавалась более чем реальная угроза, что советский человек не ступит первым на Луну, так как американская лунная программа “Аполлон” (работы были начаты в IV квартале 1968 года) довольно успешно реализовывалась. В этой ситуации главный конструктор В.Н. Челомей выходит в ЦК КПСС со своим проектом лунной экспедиции на базе новой ракеты-носителя УР-700, подписанным десятью авторитетными главными конструкторами, в большинстве своем академиками. Нам было известно, что проект с пониманием принят Д.Ф. Устиновым — секретарем ЦК КПСС.
Институт внимательно рассмотрел проект носителя УР-700 и выдал отрицательное заключение, отметив нецелесообразность его создания, несмотря на высокие технические характеристики и интересные конструктивные решения. Отказ мотивировался тем, что носитель работает на высокотоксичных компонентах топлива и в случае аварии более двух тысяч тонн отравляющих веществ будет рассеяно на местности, а кроме того, страна не в состоянии финансировать разработку двух супертяжелых носителей. Институт еще не успел разослать свое заключение, как меня и первого заместителя министра Г.А. Тюлина любезно приглашает к себе сам Челомей. В своем кабинете он в течение двух часов лично убедительно и очень подробно описывает нам с использованием большого числа красочных плакатов технические особенности носителя УР-700 и его достоинства. Затем он обратился ко мне: “Юрий Александрович, как Вы думаете, пройдет мой проект? Ведь его поддерживает Дмитрий Федорович!” — давая понять, кто стоит за ним. Мне не хотелось излагать содержание нашего заключения полностью. Я только спросил: “Откровенно?” — “Конечно! Какие могут быть сомнения!” — Я коротко ответил: “Не пройдет!” — “Почему?” — “Видите ли, Владимир Николаевич, на создание двух носителей УР-700 и Н1 у нас не хватит ни денег, ни производственных мощностей. У министра и на Н1 не хватает средств. Вместо четырех носителей Н1 в год, согласно постановлению ЦК КПСС и Совмина, реально делается только полтора. Куйбышевский завод не в состоянии выполнить план. В таких условиях, чтобы разработать носитель УР-700, необходимо остановить работы над носителем Н1, а он, по определению, хороший, так как еще не летал. На него уже истрачено полмиллиарда рублей. У начальства не хватит ни смелости, ни аргументов, чтобы выйти в Политбюро с таким предложением “.
Челомей посерьезнел и обидчиво сказал: “Вы разъясняете азбучные истины, как профессор нерадивому студенту”. Я извинился, продолжения этот разговор не получил.
А уже через пару дней я отчитывался перед Д.Ф.Устиновым, позвонившим мне по “кремлевке”.
Подробности дальнейшей судьбы проекта-носителя УР-700 я не знаю, но он в разработку не пошел. Так что идиллическими мои отношения с Владимиром Николаевичем никак не назовёшь. Да и откуда они могли быть таковыми? Трудно даже представить все сложные ситуации, которые переживал институт за прошедшие 30 лет как головная оппонирующая организация, варясь в котле технических и административных противоречий, сопровождавших бурное и успешное развитие отечественной РКТ!
Почему мы не слетали на Луну?
— Юрий Александрович! Читатели меня просто не поймут, если я не задам вопрос о том, почему не был реализован лунный проект?
— В нескольких словах невозможно охарактеризовать ситуацию с нашим лунным проектом Н1-Л3 и оценить его конкурентоспособность по сравнению с американским “Аполлон”. Мне представляется, что отрицательную роль сыграли три основных фактора:
• Во-первых, мы поздно вступили в соревнование с американцами по созданию лунного комплекса.
• Во-вторых, силы были распылены на выполнение больших программ околоземных пилотируемых полетов и запусков космических аппаратов к Луне, Венере, Марсу.
• И, наконец, в-третьих, недостаточным было финансирование и производственное обеспечение проекта: их необходимые объемы выходили за пределы государственных возможностей.
Всё это привело к сильному отставанию и потере основной цели лунной экспедиции — достижению приоритета. Поэтому программа не была выполнена.
— А как Вы лично отнеслись к закрытию лунного проекта?
— В 1973 году на совещании у Д.Ф. Устинова, где все единогласно высказались за закрытие лунной программы, я отстаивал необходимость завершения разработки ракеты Н1, мотивируя это целесообразностью иметь носитель для решения перспективных космических задач и необходимостью не допустить свертывания производственного потенциала страны. Однако мое мнение не сделало погоды.
— Вы как директор головного института отрасли, наверное, не раз попадали в щекотливое положение в связи с необходимостью отказывать в некоторых случаях главным конструкторам?
— Помню, как в один из моментов затяжной эпопеи по разработке носителя Н1 его главный конструктор В.П. Мишин вышел с проектом создания модернизированного носителя Н1М, выводящего на опорную орбиту полезный груз 115 т вместо 97,5 т по проекту Н1, и предложил параллельную их разработку. Институт дал отрицательное заключение и выслал его в МОМ и ОКБ-1. Однако на совещании межведомственной комиссии по носителю Н1 во главе с министром общего машиностроения было принято единодушное решение о разработке Н1М.
Представитель ЦНИИмаша (я был в командировке) в условиях такого единодушия побоялся напомнить об отрицательном мнении института. Через два месяца по ВЧ звонит С. А. Афанасьев из санатория “Красные камни”, где он отдыхал вместе с В.П. Мишиным, и возмущенно говорит, что институт всегда по крупным вопросам выступает против интересов министерства и ОКБ отрасли в угоду ВПК:
— Я приеду, разберусь с вами и положу конец такому поведению института!
Я подготовился и жду вызова. Через две недели после приезда звонит Афанасьев:
— А ты был прав. Не нужен нам носитель Н1М. Придерживайся заключения института и не бойся Мишина!
”Надеюсь, что благоразумие восторжествует!”
— Юрий Александрович! Как Вам удалось оставаться директором головного института отрасли в течение такого фантастически долгого срока?
— Я уже приводил эпизоды, иллюстрирующие сложность роли головной “жандармской” организации, когда практически по любому крупному вопросу имелось не менее двух полярных точек зрения. И каждая сторона считала себя правой, а институт для одной из них оказывался в положении необъективной стороны, поющей с чужого голоса. Однако несмотря на суровую критику со всех сторон и вечные раздраженные несогласия с угрозами снять директора с должности я проработал, вернее, пробалансировал на острие ножа, директором ЦНИИмаша, 30 лет до законного ухода на пенсию в 70 лет перед началом обвальной “перестройки” науки и военно-промышленного комплекса.
Я это объясняю тем, что институт опирался не на желание угадать настроение начальства или какого-то любимого главного конструктора, а на твердые и обоснованные в результате исследований технические позиции и техническую принципиальность во всех случаях. С нашим мнением можно было не соглашаться, спорить, но нельзя упрекнуть институт в непоследовательности или желании уловить в свои паруса нужный ветер. Кроме этого, не все были против мнения института, и расклад противников и союзников постоянно менялся. И, самое главное, начальство со временем в большинстве случаев убеждалось, что институт был с технических позиций прав в своем упорстве. Так складывался и, по моему мнению, сложился в Министерстве общего машиностроения авторитет ЦНИИмаша как головной научно-исследовательской организации отрасли. Довольно быстро КБ и НИИ министерства начали уважительно относиться ко мнению ЦНИИмаша и старались заручиться его поддержкой.
— Какие Вы видите перспективы у ЦНИИмаша и отрасли в целом?
— В настоящее время в связи с перестройкой экономики государства ЦНИИмаш, как и почти все организации страны, переживает, мягко говоря, не самые лучшие времена. Однако я надеюсь, что благоразумие восторжествует, а идеи необходимости защиты государства и обеспечения его безопасности, равно как и достижения конкурентоспособности высоких технологий на мировых рынках, как это свойственно всем развитым цивилизованным странам, рано или поздно возобладают, и уникальная экспериментальная база, и коллектив ученых, являющиеся национальным достоянием государства Российского, возвратятся к полнокровной творческой работе.
Размышлизмы eao197
Размышления и впечатления, которые не хочется держать в себе. О программировании в частности. Ну и о творчестве, и о жизни вообще.
пятница, 24 мая 2013 г.
[life] Впечатления от книги о Ю.А.Мозжорине «Так это было»
Собрался с духом поделится впечатлениями о книге о Юрии Александровиче Мозжорине «Так это было», хотя закончил читать ее около двух недель назад. Настолько сильно она меня задела, что потребовалось время, чтобы более-менее внятно выразить свои мысли словами.
Ну а общее мое впечатление от всего прочитанного можно выразить всего одним коротким вопросом: «Как?»
Я не понимаю, как человек мог проделать все это. Сначала работа в НИИ-4, закончившаяся созданием командно-измерительного комплекса для первых космических аппаратов. Затем почти тридцатилетняя работа в крупнейшем НИИ-88 (НИИмаше), отраслевом институте, который оказался между стыке интересов оборонного комплекса (заказчики) и конкретных КБ и предприятий, выпускавших ракетно-космическую технику (исполнители). В краткой рецензии на книгу я даже не буду пытаться перечислить всего, через что пришлось пройти Ю.А.Мозжорину. Очень рекомендую прочитать это самостоятельно.
Никогда еще я не испытывал такого комплекса собственной неполноценности, как читая о работе Мозжорина. Человек справлялся с такими проблемами, масштаба которых я себе даже вообразить не могу. При том, что на пост руководителя НИИ-88 он пришел в 40 лет (мой нынешний возраст) уже имея за спиной больше достижений, чем я смогу накопить к концу своей жизни. Масштаб личности этого человека поражает. И тем острее мучает вопрос о том, как ему это удавалось.
Наверное, эту книгу я прочитал вовремя. В нужное время, в нужном возрасте. Но жаль, что она мне не попалась на глаза месяцев 8-9 назад. Возможно, какие-то профессиональные моменты, которые я воспринимал слишком остро и на которые реагировал, как это представляется сейчас, не правильно, были бы мной пройдены иначе.
Думаю, что книгу нужно прочитать всем, кто задумывается о руководящей карьере. Или вынужден приспосабливаться к должности руководителя.
Читая подобные книги я стараюсь выискивать в тексте мелкие практические советы. Убежден, что именно багаж «маленьких хитростей» и определяет профессиональный опыт (да и жизненный опыт так же). Но вот здесь, по крайней мере, при первом прочтении, таких моментов я отметил всего два.
Первый, описанный самим Мозжориным, касается контроля за исполнением поручений:
. нельзя не обращать внимания на невыполнение своих поручений (или несвоевременность их исполнения), иначе сотрудники “сядут на шею” и вся организация развалится. Нужна строгая система контроля приказов и указаний ГКОТ. Впоследствии я создал соответствующее специальное небольшое подразделение и ввел систему контроля. Даже содержавшиеся в моих резолюциях на входящих документах указания при их исполнении “закрывались” моей второй подписью, чтобы потом не говорили: “А я Вам уже докладывал, когда мы шли по коридору”. Без нее поручение считалось невыполненным и документ (письмо) не мог быть подшит в дело.
Второй практический момент указал И.В. Мещеряков:
У меня до сих пор сохранились написанные лично Юрием Александровичем в виде таблицы черновые разработки всех требуемых мероприятий, с детальным перечислением того, что должно испытываться на стендах, а что в ходе летных испытаний (я храню и наброски собственных предложений в обеспечение безопасности по трассе полета комплекса, в том числе и над иностранными территориями). Эти черновики мы использовали для изготовления плакатов, по которым докладывали на заседаниях госкомиссии. Указанный подлинный документ — лишнее свидетельство того, что Юрий Александрович сам разрабатывал все ответственные документы.
Мы оба были убеждены в необходимости личной работы над документами определенного уровня. Подчиненным нужно поручать только подготовку фактических данных, в частности, статистических материалов и технических характеристик изделий, сведенных в таблицы. Сам же обобщающий текстовой материал должен разрабатываться лично. Никто, особенно при обычном дефиците времени и недостатке информации, известной только самому докладчику, не может удовлетворить всем его замыслам. Да и на инструктаж и пояснения уйдет больше времени, чем потребуется на подготовку доклада самому автору.
Этот момент перекликается с тем, как сам Мозжорин описывал свои основные задачи после вступления на пост руководителя НИИ-88:
Вторым моим решением было стремление как можно быстрее и как можно лучше разобраться в технических задачах института. Это было необходимо для правильного руководства организацией, выбора оптимального направления ее деятельности, составления правильного тематического плана работ. В указанном направлении я мог рассчитывать на определенный успех. Основы теоретической и экспериментальной аэродинамики я изучал в Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и в МАИ. Прочность была моим хобби в академии, где я под руководством Н.С. Кана занимался некоторое время научно-исследовательской работой в данной области. Материаловедение достаточно обстоятельно преподавал профессор Гевелинг в Московском авиационно-технологическом институте, где я учился в 1940-1941 годы после перевода туда нашей учебной группы из МАИ (в момент образования МАТИ). Материаловедение изучал я и в академии. Так что понимать это направление деятельности НИИ-88 мне было легче.
Конкретное знание предмета деятельности института было необходимо еще и потому, что у высокого начальства стихийно возникали различные вопросы, на которые надо было давать незамедлительно ответы. Я должен был постоянно “быть в курсе дела”: я не мог заранее предвидеть возможные вопросы и поэтому таскать с собой кучу специалистов.
И это как раз то, что вызывает во мне огромное удивление, восхищение и непонимание. Как в голове одного человека укладывался весь диапазон исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводившихся в его институте?! У меня этого не получалось даже на значительно меньших масштабах. И уж тем более я поражаюсь «смелости» некоторых современных «эффективных менеджеров», едва-едва заступивших на руководящие посты в новых для себя организациях, с плеча рубить сложившиеся традиции и устоявшиеся связи. Впрочем, это уже совсем другая история.
В общем, книга впечатляет. Если, конечно, читать ее с постоянными попытками поставить себя на место главного героя и попытаться осознать масштаб решаемых им задач, их значимость и возможные варианты последствий.
Под занавес не могу удержаться от того, чтобы дать еще одну большую цитату, которая иллюстрирует, в том числе, и мои собственные взгляды на то, как нужно руководить:
В своей практике я много видел больших начальников. Некоторые из них достигали хороших результатов и становились видными руководителями, однако широко использовали только метод “кнута” в общении с подчиненными. Таких начальников отличала постоянная суровость и строгость в обращении со своими сотрудниками и высокая взыскательность в случае малейших нарушений или нерасторопности в выполнении даваемых поручений. Руководителей подобного рода боялись, но “душу” им не открывали. Полной гармонии в творчестве не получалось, но дело спорилось. Другая категория начальников, мягкотелых и нетребовательных, не добивалась нужного результата в деле. Таких руководителей чаще любили, но подчиняющиеся им исполнители тоже, в свою очередь, “не горели” на работе. С.П. Королев прекрасно сочетал в себе высокую требовательность к сотрудникам и, я бы сказал, суровость в обращении с ними с исключительным пониманием окружающих, поощряя их инициативу. Сергей Павлович был очень заботлив и внимателен к личным нуждам коллег, умел их выслушивать и принимать решения, пусть отличные от высказанных предложений, но не обижающие их авторов. Поэтому Королева слушались, уважали, любили и готовы были выполнить любое его поручение. О строгости и разносах СП ходили легенды, но эти разносы скорее напоминали шум грома без опасной молнии. Не прощал Королев только нелюбовь к космонавтике. По моему мнению, он представлял собой идеал руководителя.
По своему характеру я не отличался умением владеть бичом, о чем мне неоднократно напоминали мои прямые начальники, упрекая в “либерализме”, отсутствии командного “рыка”. Поэтому я не мог взять за стандарт своего поведения “грозного директора”. Однако понимал: для того чтобы управлять такой большой организацией, необходима, прежде всего, высокая постоянная требовательность, причем требовательность разумная, основанная на уважении к человеку, исключающая истерию, вспыльчивость и нанесение оскорблений даже в экстремальных ситуациях. По моим наблюдениям это давало лучшие результаты, чем “ор” или громкие разгоны. Человек более спокойно и разумно выполняет поручение, когда он не травмирован эмоционально и его не тревожит мысль ошибиться. Вместе с тем нельзя не обращать внимания на невыполнение своих поручений (или несвоевременность их исполнения), иначе сотрудники “сядут на шею” и вся организация развалится.
Резюмирую. Я рад, что прочитал книгу «Так это было». Рекомендую. Но не могу обещать, что на других читателей она произведет настолько же сильное и положительное впечатление.
PS. Прошу так же прощения, что не дал краткой исторической справки о самом Ю.А. Мозжорине. Подозреваю, что многие, как и я сам, впервые услышат эту фамилию. Но, во-первых, такая справка заняла бы много места. Во-вторых, если бы я не копипастил ее откуда-нибудь, а писал бы сам, то в ней было бы много неточностей. Ну и, в-третьих, если прочитать первую часть книги, то надобность в такой справке просто отпадет.